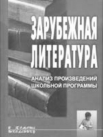В эпоху глобализации, которая заставляет задуматься о легитимности постсовременных неоуниверсальных ценностей, с особой остротой встает вопрос о встрече “своего” и “чужого” в структуре национальных культурных традиций. Особенно это актуально в свете открывшихся в последние десятилетия обьективных угроз, по словам Ф. Фукуямы, “негативных экстернальностей” как проявлений нетерпимости по отношению к тем, кто не является членом определенной группы - национальной, религиозной, корпоративной, гендерной и др. Это в полной мере касается и таких специфических явлений, как “женский” и “мужской” культурные дискурсы, противостояние и взаимодействие которых отчетливо заявило о себе в эпоху Просвещения.
Эта эпоха не только санкционировала “свободу” проявления человеческого - в понимании большинства просветителей мужского интеллекта - для позитивного “подрыва” старого мира, но и положила начало практике новых символических жестов, стереотипов поведения и риторических фигур по отношению к такому сложному теоретическому и художественному построению как “женщина”. Известный историк искусства А. Хаузер писал об исключительной роли XVIII века в становлении нового типа взаимоотношений мужчин и женщин в художественной литературе. Это, по его словам, была “переходная эпоха”, которая “закончила эпоху рыцарской любви и провозгласила начало войны против любовного мезальянса”. Точкой отсчета немецкий исследователь называет роман аббата Прево “История кавалера де Грие и Манон Леско”, герой которого “испытывает мазохистский восторг в душевной исповеди о слабостях своего характера”]. Именно от крайностей характера влюбленного де Грие, по мнению исследователя, проложены сложные линии влияний на душевный эксгибиционизм Руссо и на волнообразные взлеты и падения героев просветительской литературы, проявлений презрения и уважения к ним, что демонстрируют в своих произведениях Лессинг и И. Гете.
Образ Манон стимулировал появление новой дискретной личности героя, который терял свою рациональную идентичность и не всегда мог объяснить логику своих поступков, апеллируя при этом к сложным чувствам по отношению к такой “своей” женщине, которая вдруг предстала как “чужая”. Если вспомнить, какую роль в эту эпоху сыграло рококо, где “сладость” жизни часто понималась как “сладость”, которую может подарить женщина, то подобное измене вне горизонтов в понимании места мужского “я” в литературе привело к новому осмыслению “иного-чужого”.
Вспомним того же Руссо, который продемонстрировал дискретность, “раздвоенность” собственного “я”: будучи одним из самых морализирующих авторов столетия, своими собственными поступками он продемонстрировал пример “иного”, “чуждого” собственным декларациям поведения - своих собственных детей он отдал в приют. В то же время последовательный рационалист Вольтер, который объявил открытую войну всем “предрассудкам разума”, в “Метафизическом трактате” был вынужден признать: мужские вожделения по отношению к женщине зачастую “сильнее, чем его разум”. А Вовенарг в трактате “Введение в познание человеческого разума” (1746), последовательно отстаивая тезис о многообразии форм, в которых проявляет себя разум, однозначно утверждал: человек не способен и не должен управлять страстями.
Особый “свой”, то есть индивидуальный способ получения опыта со стороны “я”, логоцентричное понимание мышления и бытия вступили в принципиальное противоречие с появлением ощущения “тревожного иного (отличающегося)” человека. Впрочем, и сам “идеальный интеллектуал” эпохи Просвещения - объект постоянных полемик - часто выступал как аутсайдер, то есть в значительной степени “чужой”, доказывающий свою значимость в противостоянии с теми, кто составлял основной фон действительности. Собственно говоря, открытие “чужого” стало камнем преткновения для идеи просветителей о возможности интеграции человеческого рода в идеальную общность, общность “своих”, заставило задуматься над проблемами “прав гражданина” и “прав человека” - понятиями, которые в определенных обстоятельствах, как оказалось, далеко не совпадают и иногда даже противоречат друг другу.
Тем более, если это касалось прав женщин, которые в эпоху Просвещения, по словам английских литературоведов Изабеллы Армстронг и Виржинии Блейн, “начали проявлять открытое недовольство приоритетностью искусственных мужских рационалистических ценностей” и противопоставили им особый тип “женской субъективной чувствительности”. Сегодня, как они считают, пришло время пересмотра традиционных историй литератур, поскольку было заново открыто и реинтерпретировано творчество женщин писательниц XVIII века, среди которых особо выделяются Мери Липпор, Анна Бербалд, Хана Мур, Шарлотта Смит и многие другие.
Известная представительница феминистической критики Элейн Шоуалтер, акцентируя внимание на особом понимании так называемой “женской сферф” в XVIII веке, в этом плане делает очень важное уточнение: “Женщины-писательницы не пребывают ни внутри, ни снаружи мужской традиции: они одновременно находятся в двух традициях, это “подводное течение” основного русла”.
Таким образом, речь идет не только о восстановлении исторической справедливости по отношению к писателям-женщинам, но и о поисках новых, нетрадиционных, возможно, альтернативных способах и моделях репрезентации в истории национальных литератур “другого”, “иного”, “подводного” дискурса, которым является дискурс этих женщин-писательниц. Принимая во внимание рационализацию проблемф “своих”, под которыми понимали тех, кто разговаривает “прозрачным” и “понятным” языком, - именно в эпоху Просвещения обострилась “теоретическая подозрительность” по отношению к “другому”. Его не столько пытались понять и принять, сколько стремились интегрировать (”завоевать”, если это касалось женщины) зачастую с помощью рационального “механизма” мужских “аргументов”, иногда путем интриг и коварства. Таким “другим”, напримером, предстает перед читателем героиня романа С. Ричардсона “Памела, или Вознагражденная добродетель” (1740), которая в силу своего воспитания и моральных принципов оказалась недосягаемой для самых ухищренных “мужских” тактик и стратегий соблазнения.
Однако искренность поведения “чужой” Памелы, ее “чуждость” обычным человеческим слабостям и практическим интересам вызвали подозрение уже у самих просветителей - вспомним “Апологию жизни Памелы Эндрюс” Филдинга. Автор литературной пародии принципиально изменяет “оптику” видения персонажа: внешне самодовольная мораль Памелы, добродетель которой понимается Филдингом как девственность, превращается во что-то прямо противоположное. Оказывается, добродетель, понятая в таком ключе, может сохраняться и для чисто практической цели - ярмарки невест. Хорошо известно, что рациональный индивид утверждается не только как самодостаточное “я” - он пытается перенести мир своих желаний на окружающую действительность и увидеть результат своих “цивилизованных” деяний.
В том числе эта стратегия распространяется на того, кто внезапно стал проявлять свое несогласие быть “включенным” в общую обойму оптимистов, которые связали надежду на счастье с необходимостью дистанцироваться от прошлого как от практики трагических ошибок и заблуждений. Этих “других” нужно было рационально описать, а также рассмотреть возможность “переубедить” их, доказать, что они стали жертвами ошибок и неправильных умозаключений. И здесь просветительский разум столкнулся с неразрешимой для него проблемой, поскольку взаимодействие “своего” и “чужого”, в том числе и на уровне интимных отношений мужчин и женщин, не всегда подчиняется рациональной логике причинно-следственных связей.
Похожие сочинения (3 самых похожих)
Еще сочинения из раздела Другие сочинения по зарубежной литературе
Ну а если Вы все-таки не нашли своё сочинение, воспользуйтесь поискомВ нашей базе свыше 20 тысяч сочинений
Сохранить сочинение:
|